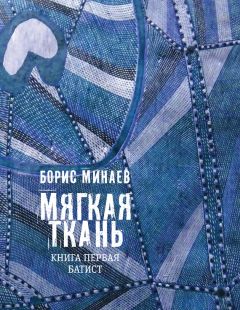– Это моя жена Вера, – сказал Весленский. – Она умерла в возрасте двадцати пяти лет. От испанки. Из-за недоедания, холода, отсутствия нормальных условий жизни в последние годы совершенно несправедливо умерли миллионы таких же молодых и прекрасных людей. Таких же молодых и прекрасных, как вы… Будет ли справедливо, если мы с этим согласимся? Если оставим это без последствий? Вот Веру Штейн… ее нельзя воскресить. Но можно – можно! – запальчиво крикнул доктор, – исследовать ее тело, чтобы сохранить такую возможность для будущего. Чтобы извлечь ту частичку генной памяти, которая поможет нам решить эту задачу.
В этот момент со своего места встал Бурлака и громко произнес:
– Вопросы, товарищи!
Доктор благодарно оглянулся.
Следующие пять минут он отвечал на вопросы. Да. Разрешение от горздравотдела получено. Нет. Научная ценность опыта невелика, это рядовая операция. Да… Генетическая память находится, разумеется, в отделах, отвечающих за нервно-мозговую деятельность, но в то же время любой участок тела может содержать информацию, которая…
– А вам не страшно, доктор?! – крикнул кто-то опять, звонко и раскатисто.
– Встаньте, пожалуйста, – попросил Весленский.
Да, так он и думал, это была работница табачной фабрики. Скромная комсомолка.
– Нет, не страшно, – сказал он. – Мне не страшно, но…
То, что произошло дальше, Весленский неоднократно пытался объяснить Бурлаке – и не смог.
– Так что же случилось? – упрямо спрашивал тот.
– Понимаете, Иван Петрович… Дело не в вопросах из зала. Дело в другом…
Момент, когда сознание его переключилось, доктор помнил слабо, но образ, который внезапно встал перед его глазами, был очень ярок.
У них с Верой была такая привычка, даже, скорее, некое общее движение на уровне рефлекса, животно-инстинктивное, во время засыпания (а ложились они вместе, в одну постель, неукоснительно все эти семь лет, может быть, то было единственное их священнодействие, или же просто действие, которое по молчаливому уговору оба признавали сакральным и не подлежащим нарушению), когда он просовывал левую руку ей под голову, а она отворачивалась и мгновенно засыпала на его руке.
Он же сразу заснуть не мог.
Лежа на боку, голова к голове, лицом к ее затылку, обняв ее стан правой рукой, он долго не мог сомкнуть глаз, слыша ее дыхание, которое, казалось, уходило во сне в какую-то внутреннюю бездну. Идти следом в эту бездну доктор совсем не хотел, но рядом с Верой ему вдруг становилось необыкновенно спокойно, и он лежал с пустой головой, пока рука окончательно не затекала, и чем дольше лежал, тем полнее ощущал это остановленное мгновение.
Он тянул и тянул это мгновение, не желая беспокоить Веру, а главное – менять такую волшебную позу, догадываясь, что во сне жена чувствует то же самое и растворяется вместе с ним, доверяя ему свое тело и свою отлетевшую душу, а рука затекала все больше, пока совсем не становилась отдельным предметом, и он в темноте смотрел на свою ладонь, на белевшие в темноте тонкие кости, на волосы, покрывавшие внешнюю ее часть… Эта отдельная от него рука значила что-то – бестелесность, безмолвие их лучшего времени, но он никогда не мог разгадать этого до конца и просто смотрел на руку коротким недоверчивым взглядом, то и дело переводя его вверх, в пустоту.
В тот день, отчитываясь перед товарищами о проделанной работе, верней, о теории реального воскрешения, или марксистского бессмертия, или теории генной памяти, которая давно уже в нем бродила, но никак не могла найти выхода, а Вера помогла, доктор вдруг ярко ощутил тщету.
Тщета была в том, что восстановить тело Веры будет, наверное, вполне возможно. Как и воскресить ее память. Пусть не при нем, пусть после, когда-нибудь. Однако ту связь между ними, возникавшую, когда они лежали в постели, обнявшись, ничто и никто уже не восстановит.
Именно это понял доктор в клубе табачной фабрики, перед тем как внезапно потерять сознание и под испуганные крики присутствующих дам медленно сползти вниз.
Глава восьмая
Универсальный портной (1918)
После Весленского в дом к Штейнам повадился ходить комиссар Стасович.
– Ударение на втором слоге, – сказал он всем трем сестрам, когда знакомился.
Это было почему-то так смешно, что Надя сделала книксен, чтобы не расхохотаться и не попасть впросак.
– Хорошая квартира, – добавил, задумчиво осматривая помещение.
Портной Штейн, который уже привык к посещениям молодых людей, вежливо пригласил его присоединиться к семейному обеду.
Как ни странно, несмотря на то что портной не принадлежал к высшей прослойке общества, то есть не состоял на службе ни у нового, ни у старого государства, даже в голодном восемнадцатом году обеденное меню у него в доме оставалось пристойным. Ничто не могло сломать эту традицию. Казалось, если жена не подаст вкусно пахнущий суп в дымящейся тарелке, мир рухнет, погаснет солнце и Петербург внезапно пойдет ко дну. Она готовила его из репы, из тыквы, из селедки, из топора, из чего угодно. Но суп был. Была картофельная запеканка на второе, это уж в самые трудные времена.
Единственное, что исчезло совсем, – хлеб.
– Я не понимаю, – говорил Штейн Стасовичу, аккуратно поднося ложку ко рту, – ведь хлебопеков не расстреляли. Печи имеются, мука тоже, дрова можно достать, в этом есть революционная необходимость, извините – достать дрова. Чтобы испечь хлеб, извините.
– У кого есть? У вас? – обиженно спрашивал Стасович, тоже поднося ложку ко рту.
– У меня нет. Моя жена, к сожалению, не умеет печь хлеб. Но мука есть. Мука в городе есть, – упрямо повторял Штейн.
– Откуда вы это знаете? – пронзительно смотрел на него Стасович.
– А куда она могла деться? – простодушно отвечал портной. – Были запасы на случай войны. Ну об этом же все знают, товарищ Стасович. Это же общеизвестный факт.
Стасович хмуро молчал, и мамаша Штейн, грозно глянув на мужа, бросилась подавать запеканку.
– С чем запеканочка? – уточнил Стасович.
– Картофельная. К ней рыбка.
– А…
Чтобы прервать затянувшееся после этого молчание, мамаша Штейн, как бы спохватившись, вынесла из буфета небольшой графинчик.
– Вина нет, вы уж извините.
– Да ничего, – сказал Стасович, галантно наливая притихшим сестрам водку в высокие хрустальные рюмки. – Даже лучше. За вас, дорогие мои!.. Марк Сергеевич, – важно произнес, с удовольствием опрокинув в себя рюмку, – если у вас будут какие-то проблемы, вы же знаете…
– Знаю, знаю, – благодушно закивал портной. – Благодарю вас, товарищ Стасович.
Портной Штейн довольно смело держался за этим обедом (и за другими такими же) и со Стасовичем, и с другими товарищами, не только потому, что с потенциальным женихом потенциальный тесть обязан держаться твердо, не подобострастно, с сознанием старшинства и даже некоторого превосходства, так велел семейный долг и древняя традиция, но и потому, что ни в каких услугах новой власти портной в общем-то не нуждался, по крайней мере тогда, в 1918 году, когда жизнь рушилась, он этого вовсе не ощущал, за редкими печальными исключениями, никто в доме вообще не слышал, чтобы папа говорил о неприятностях, это он считал неприличным, и причина этого твердого положения, как смутно догадывалась Вера, была в его работе, ибо платья, брюки, пиджачные пары, а также фраки, костюмы, жилетки, сюртуки, для свадеб, для похорон, для помолвок, для торжественных случаев, для выезда, для визитов, для поездок – в этом городе шить не переставали ни на один день, ни в этом, 1918-м, ни позже, ни раньше, никогда.
В это трудное время деньги стоили мало, поэтому с портным расплачивались услугами, самого разного свойства, Штейнов не посылали, например, на трудовую повинность, рыть траншеи, класть шпалы, заготавливать дрова, впрочем, записать семью портного в эксплуататорские классы было бы, наверное, тоже как-то не очень логично, однако кто там их разберет, Надя хотела идти рыть канавы добровольно (насмотревшись на то, как Вера добровольно сидела часами в холодных комнатах и читала), но папа так на нее заорал, что Надя проплакала всю ночь, но больше об этом не заикалась, их не пытались уплотнить или выселить, хотя товарищ Стасович, был не первым, кто обращал внимание, что квартира хорошая, и даже очень, дрова, картошка, чай, иногда и сахар, все это появлялось в доме как-то спокойно и исправно, клиенты же по-прежнему звонили в дверь бесперебойно, и как правило даже не здороваясь, торопливо, проходили прямо в кабинет, на примерку, или получение готового заказа, или на первый разговор, когда портной, как он сам говорил, был вынужден узнавать интимные цифры, то есть особенности фигуры, как правило, мужской, хотя Штейн шил и для женщин, здесь он был не так знаменит и велик, но уникальность его дара состояла именно в том, что это был универсальный портной, он имел, конечно, компаньонку, мадам Ларису, которая доводила платья до ума, но все-таки первую примерку, раскрой и общий замысел осуществлял он сам, остальное делала мадам Лариса, единственное, с чем была проблема в этом жутком 1918 году, так это с тканью, только со своим материалом, все громче и громче звучал из-за дверей кабинета голос отца, нет, простите, ничем не могу вам помочь, у меня нет таких возможностей, а что же я могу сделать, ищите, спрашивайте, нет, у меня нет никаких связей, я скажу что вам нужно, пишите, и дальше отец произносил слова, каждое из которых было знакомо Вере с детства, она была, пожалуй, единственной из сестер, которая любила слушать, как папа говорит с клиентом, не стеснялась этого, любила звук швейной машинки, скрип ножниц, его мурлыкание, когда он садился за работу, и вот эти волшебные имена – батист, шелк, ситец, креп, парча, газ, сукно, чесуча, паплин, кримплен, три аршина, два вершка, четыре с половиной сажени, эти слова не менялись год от года, ну или почти не менялись, они были как заклинание волшебника, и Вера понимала, что это действительно такое волшебство, такой вид волшебства, жить, как они, в голодном военном городе, где убивают прямо на улице, жить большим домом, принимая гостей, с этими скудными, но все равно вкусными домашними обедами, этим неизменным бытом, продолжать жить, не замечая ужаса, не замечая нужды, не замечая самого времени, это был замкнутый, но не душный, вкусно пахнущий, но не шибающий в нос, маленький, но не крошечный, истинно волшебный мир, который держался только на папе, на этих нитках и иголках, на его руках, на его клиентах, на его таланте, а еще больше на всеобщих человеческих привычках – в любое (даже такое) время находить время и возможность для свадеб, помолвок, торжественных случаев и похорон, выглядеть прилично, шить к случаю платья, кроить костюмы, не уметь ходить только в старом, все это были старые вечные привычки, на которых еще как-то держался мир, даже если новых тканей не было, перелицовывали старье, кроили из бабушкиного, кромсали, и снова шили, ну хорошо, принесите, недовольным голосом из-за дверей кабинета произносил Штейн, это означало, что клиенты вновь уговаривали его перешивать старье, не надеясь найти новую ткань, материя, вот что было по-настоящему на вес золота в том революционном году, вот от чего дрожали у людей руки, теплели голоса, стучало сердце, не у всех, конечно, людей, а лишь у тех, кто очень хотел и мог достать эту драгоценную ткань, эти таинственные отрезы, для остальных это было уж слишком недоступно, издевательски роскошно, предательски буржуазно, чересчур ласково, избыточно нежно – ткань, которую можно щупать, гладить, проводить рукой, прислоняться щекой, чувствовать еле слышный запах, ведь каждая ткань пахнет по своему, детка, говорил портной Штейн, это невероятно, но это так, только с ней он мог вести с ней такие разговоры, остальные две сестры его все-таки стеснялись, им было неинтересно, что ж, я их понимаю, старомодная профессия, но понимаешь, детка, когда портных не будет, вот таких как я, станет очень скучно жить, все будут ходить в одном и том же, только ей он хвастался, что шил Блоку, и шил Танееву, но не тому, который композитор, а отцу мадемуазель Вырубовой, он был тайный советник, начальник Первого отделения канцелярии Его Императорского Величества, и шил Шаляпину, правда всего один раз, как бы случайно, но это было неважно, и шил председателю комитета Государственной думы, но вот его фамилии он не знал, не запомнил, потому что председатель комитета был из какого-то другого, нового мира, к которому отец Штейн еще не успел привыкнуть, от всех этих людей у него оставались только эти интимные цифры, записи на клочках бумаги, так вот, слушай, каждая ткань пахнет по своему, батист пахнет как девушка, шелк – как женщина, отрез шерстяной ткани пахнет домом и детьми, сукно пахнет дорогой, у ткани есть детские запахи и есть стариковские, он мечтал о новой ткани, теплой, нежной, легкой, шить из нее, это будет счастье, неужели когда-нибудь все это кончится, и снова будет ткань, английская, немецкая, китайская, невероятно, как люди могут не понимать…